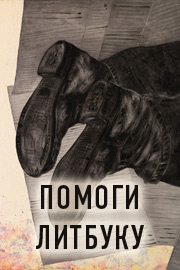Воспоминания
Продолжение
Школа
Год за годом — свежее детство со своими заботами.
Промелькнуло время перед торжественным приходом в первый класс… А вот уже и наш 3-й «А» — самый большой в школе. Сорок четыре человека! Как только Нина Александровна Винокурова, первая учительница моя, справлялась?
Училась я охотно, с интересом ко всем предметам. Из класса в класс переходила с отличием и получала «Почётные грамоты». На выпускном вечере в 1964-м мне вручили золотую медаль...
…Учеников с пятого по выпускной классы, 10-й либо 11-й, по осени возили на колхозные поля убирать картошку. Нравилось! Взятых на обед домашних харчей хватало ровно на половину аппетита. Вторую половину заполняла приготовленная нашими мальчишками, ведомыми учителями, печёная рассыпчатая картошка. Крупная, с подгоревшими боками, опепелённая в затухающем костре. Обжигаясь, кое-как облупливаем кожуру загрубевшими в работе пальчиками. Эта нехитрая горячая еда, богатая минеральными веществами и микроэлементами, восхитительна. Поедим дружно, споём задорно: «Эх, картошка, объеденье-денье-денье…», — и поработаем споро. Не отлынивал никто: такая, знать, закалка потомственная, крестьянская, у провинциальных ребятишек была.
По зову лесничества возобновляли на вырубках лес — охотно сажали на делянках, шумно гомоня или распевая песни, крохотные саженцы сосенок.
Для школы пилили дрова: на каждый класс — норма по возрасту учеников. Работали с задором, с огоньком пару-тройку часов — в свой единственный выходной: по воскресеньям. Бывало, и пенсионерам помогали, по их нужде: воды принести, дров напилить-наколоть, уборку в доме сделать. Тимуровцами нас старички называли: вот, мол, пионеры-тимуровцы пришли, подсобили маненько, спасибо им!
***
Само собой, за порядком и чистотой в своих классах следили.
— Wer ist heute Ordner?
Этот на уроке немецкого вопрос учителя: «Кто…?» — к ежедневным дежурным за партами. В конце недели «ответственная за порядок парта» протирала окна, мыла подоконники, полы в классе и передавала своё чистоплотное дежурство по живой цепочке. И ведь никто не переломился от трудов праведных.
Почему-то у нынешних школьников подобной трудовой заботы нет. А мне до сих пор сны о школе часто снятся: то уроки или экзамены, а то даже совершенно не тягостная уборка класса и коридора…
Юннат
Активистка, в начальной школе я записалась в кружок юных кролиководов. Осенью нас, энтузиастов, было с десяток, а зимой в холодный сарайчик без окон ходила кормить серых ушастых уже одна. До весны, а там… Верх одержали лошади. Всё свободное время — возле них! В конце 50-х начале 60-х в посёлке было несколько конюшен.
Дома пушистый щенок Мурзик — подарок бабушки мне на 10-летие — требовал заботы. Одновременно проходил курс дрессировки «на зов» игрушечных бубенцов, а также на прыжки сквозь вышивальные пяльца, в кольцо рук или через мою ногу смышлёный котёнок Черныш. Забавно котишка и щенок носились со мной за бубенчиками, распластывались в «полёте», учились ходить на задних лапках, выпрашивали поощрительные лакомства. С Чернышом выступала «дрессировщицей» даже на школьной сцене. А Мурзик стал моей первой ездовой собакой. Смастерила для него шлейку и запрягала в лёгкие санки. Каталась по утоптанным пешеходным дорожкам. Ребятня посёлка перенимала опыт «каюра»: собаки были во многих дворах.
***
Ещё мне нравилось в стаде встречать коров соседских: тети Танину палевую Тамарку, бурую Дочку тёти Веры, живущей в квартире рядом, или чёрную Малютку — она в самом деле была небольшой — Батуевых. А после хозяйской дойки — додаивать тонюсенькими струйками в консервную баночку для кошки или просто ни во что, втихаря пробравшись в хлев через забор загона. Однажды за такую выходку строгая Тамарка припёрла меня лбом к стене, обняв за талию ухватом острых рогов. Навсегда отучила от шалости мудрая коровка, не причинив никакого вреда, а лишь напугав до полусмерти!
Правда, я не отступилась и несколько раз затаскивала подоить отбившихся козочек в притороченный сбоку нашего хлева туалет. Просто ради процесса доения. Но и это скоро закончилось. Уж больно елозная козочка попалась. Прыгала-прыгала, увёртываясь, да и угодила с толчка задними ногами в выгребную яму. Хорошо, что неглубоко было. За рога козёнку вытащила — и прочь, прочь со двора и с глаз долой. Ох, только бы не засекли взрослые!
Этим случаем все мои детские дойные претензии завершились. Только если попросят хозяюшки-соседки, допоздна управляясь семьями на сенокосе или заготовке дров... Доверяли подоить коровушек, значит — справлялась.
Работы и фантазии,
или Мир трудов праведных, таинств и воли
В обязанности мои зимой входило пополнение дров в сенях. На случай снежных заносов тут всегда хранилась истопная норма для нескольких дней. На широких деревянных санках привожу охапки поленьев из сарая — по всегда расчищенной мною дорожке. В мыслях и действии я — неизменно лошадь!
Убирать снег иногда приходится поздним вечером, когда уже выполнены школьные домашние задания. Посёлок не избалован освещением. Уличных фонарей вообще раз-два и обчёлся: у магазинов, клуба да при школе, у проходной и конторы завода, перед промкомбинатом да за озером — при больнице и в лесничестве. Прилегающие к нашему дому улочки не освещены. Желтоватыми светлячками в ночи — только окошки в домах.
Вешаю керосиновый фонарь «летучая мышь» у входной двери над крыльцом — и в путь! Вначале — лопатой, а потом, по примеру соседок тёти Тани Кульковой и тёти Клавы Батуевой, разметаю метлой: туда-сюда, туда-сюда, чирк, чирк — красиво получается и гладко. А в мороз — даже на коньках по утоптанным дорожкам!
Воду домой носила с колонки либо из речки круглый год в вёдрах на коромысле. Ни дня без какого-либо дела и спортивных занятий не проходило. И едва дождусь свободного времени — бегом на конюшню стеклозавода. Научилась помогать конюхам и ездовым обихаживать лошадей, запрягать-распрягать, лет с семи — бойко ездить верхом. Даже одна со всеми этими премудростями могла справиться. К ночи ноги заплетаются, глаза вянут, голова идёт кругом от впечатлений, усталости, умиротворённости. Лишь коснёшься подушки — моментально в сон…
***
О, сколько таинств в освежающих и снимающих дневную усталость чудесных снах, сколько приключений, сколько вещих знаков! То сказочные герои в свой хоровод закружат, то кубарем катимся с бурым медвежонком по песчаной крутизне берега нашей речки Кужерки, то вдруг легко взлетаю (кстати, и теперь!), раскинув руки, и парю горизонтально в комнате или во дворе дома — это так легко-легко… Однажды мысль конструкторская и жанр приключенческий сработали: будто еду в пассажирском поезде по прериям, а поезд и облепи индейцы на мустангах. Да невдомёк им, что вагоны-то двустенные, с арсеналом оружия. Пассажиры все как один вооружились, к окнам-бойницам припали, отстрелялись… Запомнился этот сон, и до сих пор удивляюсь: с чего приснилось такое шмакодявке?
***
Так ведь и наяву не переводятся таинства. Взять хотя бы лабиринты нашего многосемейного дома: чуланы с крохотными оконцами, заставленные шкафчиками, полочками, сундучками с вареньями и соленьями в них и на них, мрачные закутки, чердак, тёмный и длинный. О чём только не надумаешься в них, чего только не померещится!.. Или — хлевы с выгородками, клетями и яслями для мелкой живности, гнёздами и насестами для кур, безумно притягательными сеновалами наверху. А ещё — сараи, погребы с глубоченными ямами, наполняемыми по весне льдом и тающим крупчатым снегом — своего рода холодильники на всё лето. Огороды — на задах и под окнами, за палисадниками. И огромный наш совместный с соседями двор с поленницами дров. А уж если внедряться с соседской ребятнёй и в их владения — целый реальный и одновременно как бы фантастический мир…
Да на одном только сеновале сколько чудес! Как захватывает дух, пока поднимаешься по высокой шаткой лестнице. Как далеко видно из широкого дверного проёма. Летом книжки читать здесь, на верхотуре, таинственно и в удовольствие!
Пока сеновал пуст — на солнце ясно просвечивает узкими щелями в крыше, и ходить по настеленным доскам-горбылям легко. В сумерках или при пасмурности — углы затемнены, в них паутину вязкую головой цепляешь, запинаешься о неровный, как гармошка сгорбленный, настил. То ли дело — сеном набит: теплынь, вкусно пахнет и можно вырыть норку для лёжки, где не найдет никто.
Как славно мечтается здесь! Вижу себя за лесами, за горами, за морями — в каких только странах нет, изученных на уроках географии и просто по физическим картам, что подарила мне и Зине, однокласснице-певунье, продавщица книжного магазина. Чудно, что вот у нас день-деньской сейчас, и сейчас же на другой стороне земли — ночь, или вот у нас — лето, а в такой неодолимо притягательной Австралии — зима. Какая она там, австралийская либо южноамериканская зима?! Морозная? И много ли в тех землях снега, как у нас, да ручной сельской работы?..
***
С весны по осень — огороды. А летом — ещё и пора сенокосная. Те, кто держат коров, урывают свободное времечко, едут окашивать с трудом выбитые участки. Ворошить и сгребать сено забирают с собой и нас, дворовую ребятню, тётя Фиса с дядей Юрой Анисимовы или тётя Вера Светлакова-Никанова.
У Анисимовых — две дочки, Таня с Леной, обе помладше меня. Бывает, и Саша, мой погодок и племянник дяди Юры, составляет нам компанию. Вот уж друг перед дружкой стараемся в работе! Втайне ждём не дождёмся кульминации дня — обеда большущей компанией на расстеленной в траве скатерти-«самобранке». А ещё главнее — самое-самое — ехать ввечеру на огромном возу сена, крепко стянутого верёвками через толстую жердину под названием бастрик. Ты за верёвку держишься и как бы в продольной канавке лежишь, близко-близко к небу, а тебя в сене мягко покачивает грузовик ГАЗ-63 на дорожных ухабинах. И на конные телеги возы высоченные метали! Лошадка с такого «небоскрёба» выглядела игрушечно, обликом напоминая округлую, с длинной горловиной, бутылку…
Привезли сено — взрослые тут же вилами вздымают его на сеновал, а наверху — мы, детвора, растаскиваем охапками и что есть сил затискиваем их, духмяные, пропитанные жаром Ярилы, шуршащие, по углам. Взрослые за нами подправляют и набивают сено ещё туже.
Покончив с основным сенокосом, соседи выкашивают неудобья, привозя подвяленную траву досушиваться во дворе. И опять ребятня — за грабельки да вилы. А после — всей оравой на озеро купаться-отмываться от пыли и сенной трухи. Как было всё дружно, весело, озорно, радостно от собственной помощи взрослым в их многочисленных нескончаемых трудах!
Сенокос либо другая деревенская страда — заготовка на зиму дров, ягод, грибов… — обязательны. Но и от полива огородов нас, детей, никто не освобождал. Водопровода не было. С вечера либо поутру воду из озера или речки носили в вёдрах на широких деревянных коромыслах в бочки. Она в них за летний день нагревалась, так что поливать грядки и заодно свои вечно запылённые, а то вовсе бессовестно-грязные руки и ноги было превеликим удовольствием…
Детские игры
Помощниками мы были отзывчивыми и надёжными. Впрочем, не в ущерб играм и развлечениям. В прятки — хоть несколько раз на дню. Таились в высокой, резко пахнущей картофельной ботве, в сараях и за ними, на крышах погребов. Давно усвоено, что надёжнее всего схрон на видном месте.
Два соседских хлева стоят притиснуто, едва между ними пройдёт человек. Высокие стены обшиты досками внахлёст, что представляет собой как бы лестницы со ступеньками шириной в сантиметр-два. В них есть зазубрины, а на стыках досок кое-где крошечные отвороты. С обезьяньей хваткой, опираясь и упираясь ступнями в обе параллельные стены, влезешь, бывало, почти под коньки крыш, держишься за дощатые изъяны из-под усохших и выпавших сучков, напоминающие огромные запятые, и, сдавливая смех, наблюдаешь, как водящий бегает под тобой, ищет по всем углам, а нет бы наверх глянуть… Вот он подался на огород — авось, кто залёг в картофельные грядки? Мигом слетаешь вниз — и на месте, отведённом для водящего, победоносно кричишь: «Чур — сам за себя!». Это означает, что ты будешь прятаться в игре до тех пор, пока она не прекратится или водящий не опередит «чуром» тебя.
Играли с упоением, дотемна в своих дворах. И в прятки, и в прыгалки через скакалки, и в классические «классики». Мы рисовали их прутиками на песке, а городские — мелом на асфальте. Обожали — в «вышибалы», лапту, в «поймай мяч». Также с мячиком — в темпе приговаривая: «Я знаю пять городов…, я знаю пять морей…, я знаю пять овощей…» и т. д., при этом рукой равномерно бьёшь мяч о землю, одновременно произнося по пять слов определенной тематики, пока не собьёшься либо не потеряешь мячик.
Для игр серьёзнее, баскет или волейбол — о стенку или через сетку, собирались на открытой спортплощадке в так называемом «садике»… Отчего — ровный огороженный участок с двумя-тремя калитками по длинным сторонам и без единого деревца — садик? Да потому, что много лет по его периметру мы, школьники, сажали плодовые деревца, но, проходной, в том числе и для травоядных, особенно коз, он лишался из года в год этих посадок. А запланирован был как садовый парк…
***
Из тихих игр предпочитали «домик». Во многих семьях детям строили во дворе или в саду под окнами небольшие деревянные «домики»; мы их почему-то называли «клетками». В этих «клетках» играли в куклы, «в семью», «в школу»…
Дошколёнком свой «домик» я строила внутри ножной швейной машинки «Zinger», накрывая её большим покрывалом. Когда мне исполнилось 10 лет, то появился «личный» стол-шкафчик с двумя полками. Это был мой мир! Дом, конюшня, ветлазарет, гараж, школа, магазин, больница, … — всё в этом шкафчике. Освободив нижнюю полку (дно шкафчика), укладывалась туда «поспать», свернувшись калачиком.
Такой мир личной свободы нужен каждому ребёнку! Наблюдаю за хлопотливыми моими внучатами. Они, пока маленькие, каждый день заняты «своим домиком»: строят то под столом, то сдвинув стулья и занавесив их; а во дворе — под кустами, деревьями, навесами или в уголке сарая…
***
Нравилось мне лечить своих игрушечных животных — многочисленных гуттаперчевых лошадей, раскрашенного глиняного быка или «набитого» чем-то сыпучим и мягким вельветового медвежонка. Делала им перевязки, смазывала некими пахучими жёлтыми, белыми, чёрными мазями, присыпала порошками, благо устаревшие медикаментозные средства в обилии оставались на полках настенного шкафчика-аптечки после отъезда в Эстонию моей тёти, врача-терапевта Веры Михайловны Богдановой.
Не случайна, по-видимому, моя профессия — зоотехник-коневод, а у дочери — ветеринарный врач. Кроме того, она — спортсменка-разрядница по конкуру (преодолению препятствий) и тренер по конному спорту.
***
Для захватывающих «путешествий» имелся у меня, кроме конюшни, целый автопарк. Частенько строю широкой щепкой «дороги» на песке перед крыльцом или в торце дома и вожу по их серпантину игрушки. То бишь, «езжу» на железном подъёмном кране, грузовичках, красно-жёлтом автобусе и легковушках типа «Победа»: перевожу грузы — песок, камешки, дровишки-прутики, подсаживаю «пассажиров». Также — скачу на конных повозках или «верхом» на карем гуттаперчевом Орлике или коричневом, то есть гнедом Циркаче высотой сантиметров о двадцати…
Брат моего дедушки, Сергей Андреевич Паршин, помогал мастерить тележки и упряжь для игрушечных лошадок. Будучи председателем райисполкома, он частенько ездил в командировки: летом — в изогнутом тарантасе, зимой — в санях-кошовке, на упруго набитом сене, завернувшись в огромный тулуп, с кучером на облучке. Поскольку он с женой Фаиной Самуиловной жил в крайней квартире нашего дома, то экипаж обычно подавали к их крыльцу, и меня непременно усаживали «проводить» дядю Серёжу в пределах посёлка, чем безмерно осчастливливали! Не зная, когда мой двоюродный дед возвратится обратно, я после школы часами бродила по дорогам в той стороне, куда он укатил, трепетно ожидая, что вдруг снова улыбнётся счастье прокатиться на шикарном вороном исполкомовском рысаке!
Как мне было жаль, что в 1957 году районный центр из нашего посёлка Красный Стекловар (или Кужеры) был переведён в село Морки и семья дедушкиного брата переехала в Пермь…
***
Для шумных подвижных игр собиралось много ребятишек. В нашем барачного типа доме жили с бабушкой Лизой и дедом Павлом погодки Галя, Ира и Паша Листвины, тихие темноволосые ребятишки, рано потерявшие маму; мой одноклассник — черноброво-черноглазый Петя Батуев; помладше — сёстры Анисимовы: шатеночка Таня и белокурая Лена; рядом в частном доме — Паша Варламов. Несколько поодаль — Света Саратова с братишкой Олегом из «милицейского» дома: они — дети участкового; также — мои одноклассницы: Рая Бутенина, жившая «через огород» на соседней улице, и Зина Листвина с Красноармейской; учительские дети из бревенчатой двухэтажки близ школы — Миша и Вера Светлаковы. Частенько приходили к нам «поиграть» и другие дети учителей: Вова Кормаков, Тома Леднева с сестрой Лёлей, а позднее — ещё и с маленькой Женей, Ира Фёдорова, Саша с Таней Ефимовы…
Любовь на всю жизнь
Из детских игр основная — «в лошадки»! Были у меня «невсамделишные» красные вожжи-шлейка с бубенцами. Но и без них ничего не стоило друзей по играм «обратить в лошадей» с драгоценными кличками: Алмаз, Рубин, Изумруд, Опал, Янтарь, Яхонт... Скопом бегали по двору, огородам, перекрытиям строящихся домов или неслись в лес, босиком пронизывая вброд прозрачную Кужерку. В туче брызг то был мчащийся табун, атака конницы, погоня или азартная скачка…
Себя воображала ЛОШАДЬЮ постоянно. И когда в одиночку бегала по сосновым тропкам и берегам водоёмов, когда плавала или носила на коромысле воду, поливала огород, когда везла охапку дров для печки… А то — усажу на ручную двухколёсную тележку (вот вам — и конная двуколка!) с двумя деревянными длинными ручками (оглобельки!) младшую ребятню, а сама «впрягусь». И — ну фырчать, копать ногой, взлягивать да подпрыгивать, волоча «конный экипаж» по сыпучему песку, а где плотный грунт, там и бегом... Зимой вместо тележки — большие санки…
Катаясь на велосипеде, педали представляла стременами и с горок ехала приподнимаясь-опускаясь на седле. Это была имитация верховой езды облегчённой рысью. Уроки физкультуры вызывали азарт. Обожала спортивную гимнастику, лыжи, баскетбол; хорошо удавались бег на средние и длинные дистанции, метание ядра и диска, прыжки «ножницами». Усердно прыгала в высоту через верёвку даже дома, в комнате, не говоря уж о школьном спортзале с гимнастическими снарядами или просторной летней спортплощадке. С радостью участвовала в соревнованиях школьников, в том числе на районных и республиканских первенствах.
Всё было подчинено одной цели: вырасту сильной, ловкой и буду заниматься конным спортом!
Однако, лошади лошадьми, но за честь считала и просьбы соседок встретить с пастбища их коров. Разноголосицей мычания, ароматами трав, теплом, запахом парного молока обдавало в вечернем мареве стадо. Идёшь рядом с кормилицей по деревянному тротуару — шерстяная спина коровья ёрзает туда-сюда в такт ходу. Почему-то безумно хочется вскочить на кажущуюся мягкой хребтину, вжать пятки в крутые бока с впадинами («голодными ямками») над пахами и промчаться вскачь, как в какой-то непонятной испанской корриде…
Но нет, на такое заграничное действо не хватает духа. Куда понятней и надёжней — спина лошадки! Вот тут уж традиции исконно нашинские, незабугорные: местные кони обучены седокам уступать, смиряться под ними. Сызмалу и мне на них повадно ездить: что верхом, что в телеге или розвальнях. А чтоб на коровах — неслыханное у нас дело.
Самопроверка
— Всё равно проплыву! — шептала сама себе и бросалась в воду.
Холодела, но одновременно и закалялась душа купаньем в тёплом-претёплом озере на позднем закате или даже после него. Вот где страстей-то натерпишься! Вода ласковая, но в потёмках, среди обильных кустов и вековых сосен, кажется дегтярно-тёмной, маслянистой, тягучей, таинственной, с загадочными переливами холодного света от цехов стекольного завода на том берегу. А вдруг Водяной выскочит? Или русалка! Про них много читано-перечитано да нарассказано. Живучи преданья из поколений — в больших-то семьях подружек. Попробуй раскусить, где тут правда, а где вымысел… Бр-р-р, как опасливо одной купаться в несолнечном озере, и как притягательно, как знобко посасывает под ложечкой, пока плаваешь над чёрной бархатной бездной.
Такой же волнующей была проверка личной храбрости по школьной лыжне на полтора километра в лес и обратно при полуночной луне. На неё бежишь — манит светлым ликом своим, красота подлунного леса неописуемая, снежные блёстки переливаются, дразнят, восхищают. А вот обратно — тень твоя впереди гибко поплясывает, скрип лыж заглушает иные звуки, а в голове: «Вдруг волки следят или следом бегут? Ой, сколько их собралось…».
И — пулей, да с хорошим накатом!.. Вмиг — ты уже у школы, а тут и до дома рукой подать. Зато какое восхитительное уважение к себе испытываешь всякий раз после такой дерзкой вылазки в полночь, какая уверенность в собственные силы вливается в тебя!
Современники прорыва в Космос
Мне кажется символичным, что сногсшибательную весть 12 апреля 1961 года мы, восьмиклассники, узнали на уроке физкультуры от любимого учителя. Валентин Иванович Новиков влетел в спортзал:
— Человек в Космосе, ребята! Наш, советский! Юрий Алексеевич Гагарин!
— Уррра-а-а-а!!! — кувырки, прыжки, раскачивание на гимнастических снарядах, дикий пляс. — Че-ло-вееек! В Космосе! Га-гаа-риин!..
В тот день у репродуктора на площади собрались чуть ли не все жители нашего посёлка Кужеры, или Красный Стекловар (это двойное название сложилось исторически). Обнимались, поздравляли друг друга, мечтали-толковали о достижениях науки и техники, о, казалось, совсем приблизившемся светлом будущем…
Мечтаем и теперь.
(продолжение следует)